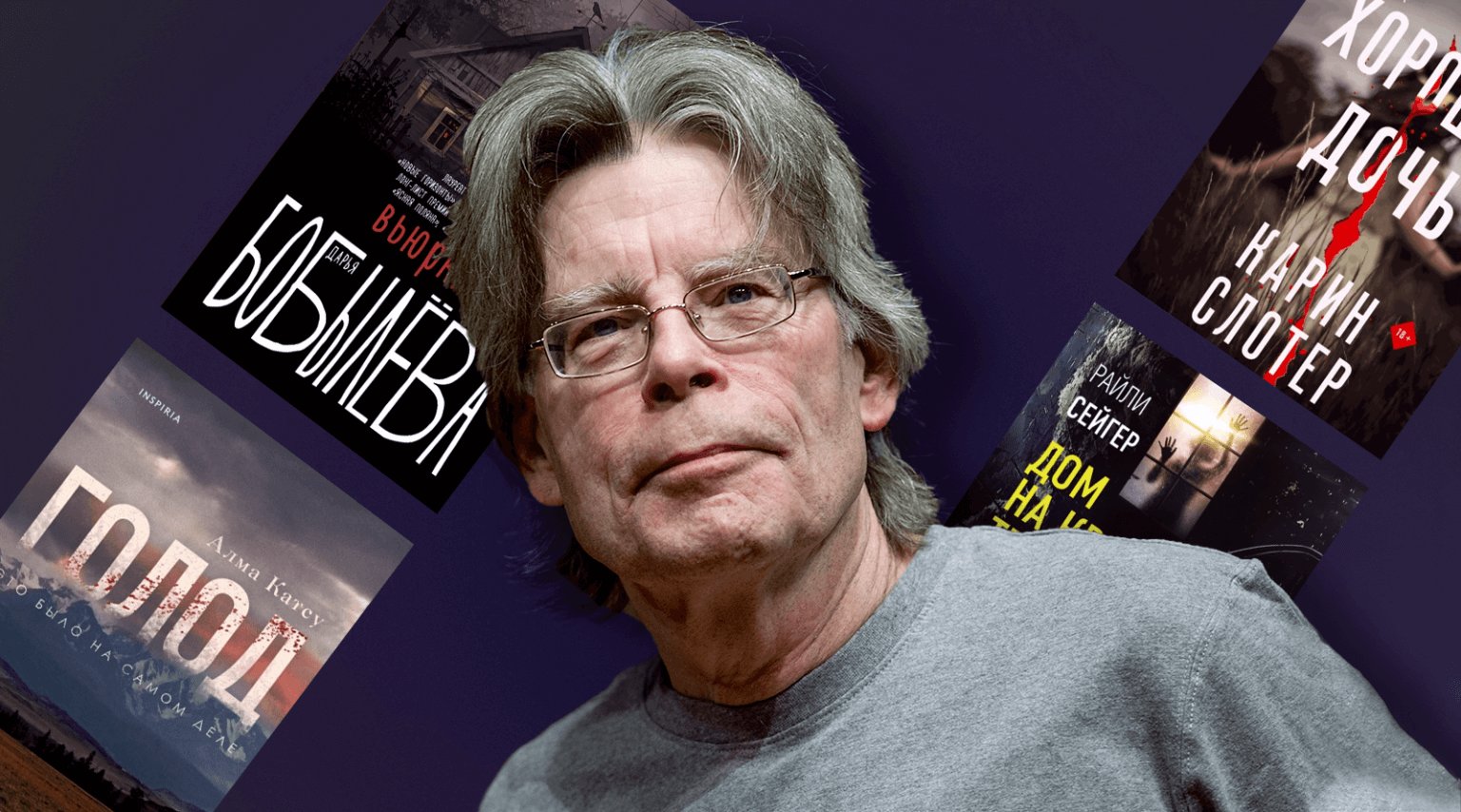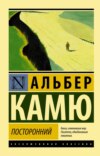Пленки из подполья: рецепт идеальной экранизации Достоевского
Совсем скоро, 26 октября, состоится онлайн-премьера новой киноадаптации «Преступления и наказания». В сериале Владимира Мирзоева сюжет известнейшего романа Достоевского поместили в декорации современного Петербурга, а роль Родиона Раскольникова исполнил Иван Янковский. Но возможно ли это – снять достойную экранизацию текста, написанного главным психопатологом золотого века русской литературы? Мы попросили разобраться в вопросе Микаэля Дессе. Ох, зря.
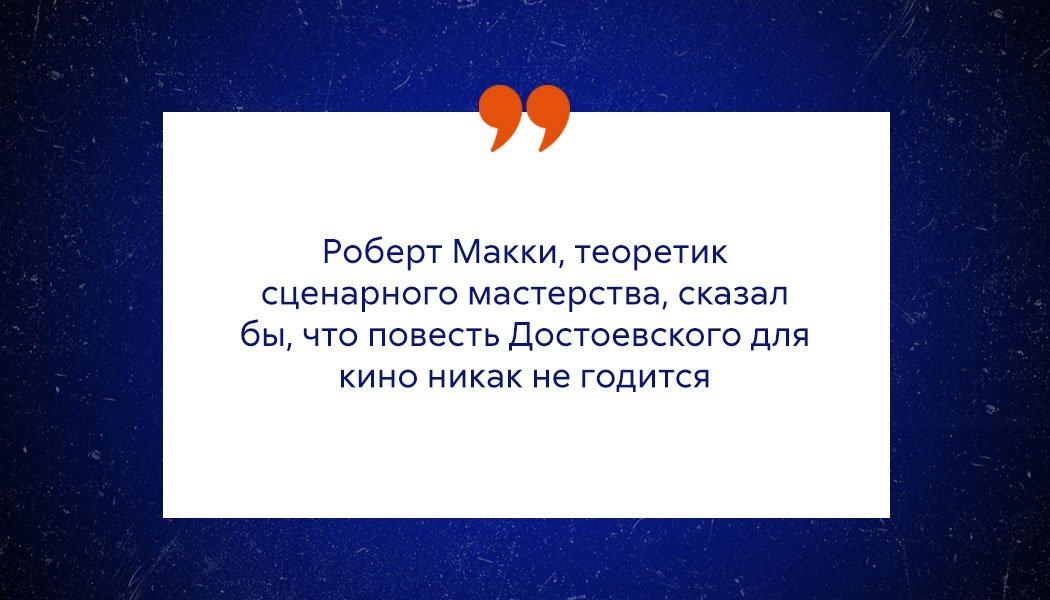
1. Допустим, вы – начинающий сценарист
Как и любой другой начинающий сценарист, вы, конечно, слишком круты, чтобы писать новые эпизоды «Гадалки», но недостаточно круты, чтобы тусить с Бондарчуком, поэтому у вас ноль реализованных проектов.
Зато вы пишете книжки.
И вот однажды на выходе из библиотеки, где вы презентовали свой «высококонцептуальный сборник малой прозы», вас тормозит тип в костюме с запонками. Ему, кажется, нет сорока, а он с запонками. Такое вы видите впервые. Он представляется, и, оказывается, вы его знаете. Или, точнее, вы о нем наслышаны. Перед вами – молодой, но уже известный продюсер, и он к вам с предложением. Он хочет заказать у вас адаптацию «Записок из подполья» Достоевского. Говорит, уже подписал режиссера. Когда он называет его имя, у вас отваливается челюсть.
2. Что скажете?
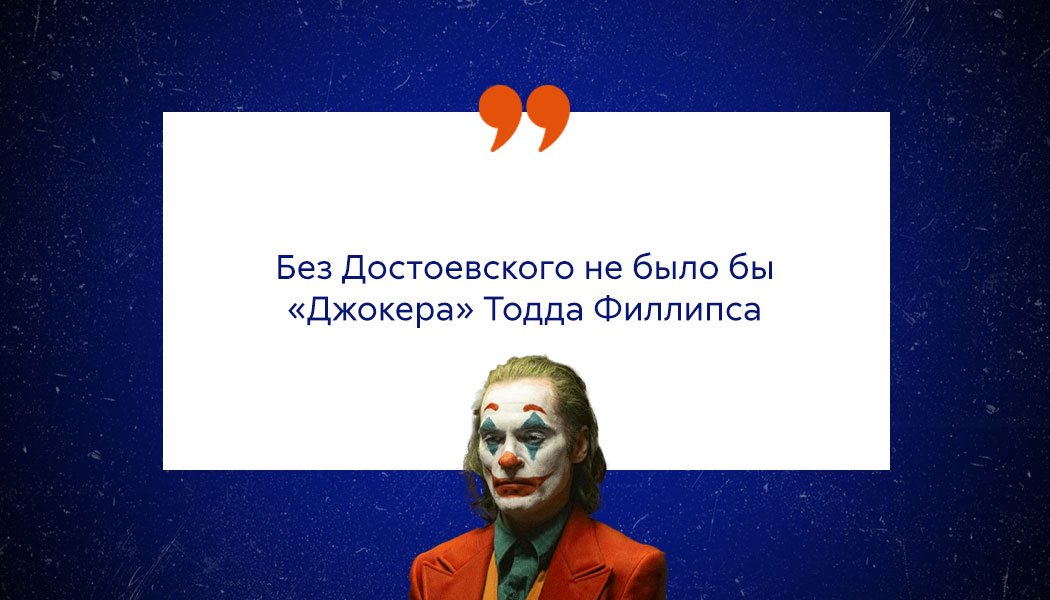
Роберт Макки, теоретик сценарного мастерства, сказал бы, что повесть Достоевского для кино никак не годится и перефасонить ее в сценарий будет более трудозатратно, чем написать оригинальный фильм. Главный конфликт «Записок...» – внутренний: герой избегает эмоциональной близости и практикует что-то вроде морального селфхарма, – и, хорошо, допустим, мы этот конфликт вытащим наружу, но что делать с первой частью повести, состоящей из рыхловатого монолога, большую часть которого Достоевский через рассказчика поливает желчью утопические теории Чернышевского? То есть драматургический потенциал тут и правда не безграничный, но вы не Макки, и вот как вы отвечаете продюсеру – вы говорите, что такая адаптация уже существует, и она безупречна. Это «Таксист» Мартина Скорсезе.
Тут же можете добавить, что без Достоевского не было бы «Джокера» Тодда Филлипса, который публично всячески открещивается от влияния «Таксиста» и кивает в сторону «Короля комедии» – другого шедевра Скорсезе с Де Ниро, – но, во-первых, одно другое не исключает (особенно если в обоих случаях зритель получает городскую трагедию о психически нездоровом аутсайдере с пистолетом), и, во-вторых, нам виднее.
Пол Шредер, сценарист «Таксиста», в интервью открыто говорит, что черпал вдохновение в «Постороннем» Камю, «Тошноте» Сартра и – не в последнюю очередь – «Записках из подполья», а не так давно в разговоре с корреспондентом Sight and Sound, рассуждая о корнях героя, он высказался и того конкретнее:
«Когда вышел “Таксист”, персонажи таксистов в фильмах напоминали вашего зятя: это обычно был забавный мужик, который трепался без умолку. А я посмотрел на него и сказал: “Нет, он – подпольный человек. Он – сердце и душа Достоевского. Он – ребенок, запертый в желтом гробу, плывущий по открытым канализационным трубам города, который вроде и снует среди толпы, но совершенно одинок”. Это была хорошая метафора».
Несложно обнаружить и сюжетные параллели: как и «подпольный человек», Трэвис Бикл вступает в сложные отношения с секс-работницей, движимый комплексом спасателя, а кроме того, противостоит вышестоящему по социальной лестнице человеку в невидимой противнику дуэли. В повести это оставшийся неназванным офицер, приподнявший и переставивший рассказчика, когда тот однажды перегородил ему дорогу в бильярдной, – «подпольщик» был так уязвлен, что позднее искал с обидчиком встречи на Невском проспекте, чтобы в отместку задеть его плечом. В фильме Бикл готовит покушение на сенатора Палантайна, в штабе которого работает отвергшая его девушка, но в назначенный день его засекает служба безопасности, и он сбегает.
Тут всего несколько абзацев, но на самом деле вы говорите с продюсером уже час или два и успели перебраться в его квартиру на Патриках. На кофейном столике – совместная фотография хозяина с Бондарчуком. Оба в плавках. Здесь, не в силах отвести взгляд от фотографии, вы наконец честно апеллируете к Макки. В «Истории на миллион» он выделяет три типа конфликтов в художественных произведениях: внутренний, личностный и внеличностный. Каждый из них лучше всего раскрывается в своей форме искусства. Так, согласно Макки, проза хороша в изображении внутренних конфликтов: инвазивный метод литературы позволяет автору транслировать читателю мысли героя и прямо описывать кипящие в них страсти: скрытую от всех борьбу, различные устремления и противоречия между ними. В изображении личностных конфликтов, то есть конфликтов между героями, преследующими личный интерес, преуспели драматурги и сценаристы мыльных опер, а внеличностные мы чаще всего наблюдаем в кино. Внеличностный конфликт – это противостояние героя с той или иной безличной силой: идеей, институцией, стихией. Тут проходит тонкая грань с личностным конфликтом. Например, столкновение полицейского с грабителем — это внеличностный конфликт, поскольку антагонизм «правоохранитель – преступник» не завязан на личной неприязни: грабитель проворовался не для того, чтобы насолить полицейскому, – у него были свои мотивы. Полицейский же, отправив его за решетку, просто сделал свою работу.
Творческий подвиг Шредера заключается в том, что, взяв за отправную точку не поддающийся прямой адаптации текст Достоевского, он смог подобрать для каждого острого угла внутреннего конфликта «подпольщика» киногеничные эквиваленты в плоскости внеличностного конфликта: Трэвис Бикл борется с системой, но проблема не в системе, а в том, как Трэвис Бикл видит ее и свое место в ней.
3. «Таксист» – это кино про инцела

Как и «Стингер» Дэна Гилроя, «Драйв» Николаса Виндинга Рефна, «Джокер» и другие фильмы про социально неадаптированных мужчин, красиво переступающих черту.
Этимологически «инцел» является производным словосочетания «недобровольный целибат» (involuntary celibacy), то есть инцел – это человек, который хочет, но по той или иной причине не может вступить с кем бы то ни было в романтические и сексуальные отношения. Возникшая в Сети субкультура инцелов шире этого определения – у нее свой словарь, свои площадки (среди стереотипных – имиджборды) и свои герои, хотя никакого «инцельского» канона нет: один берет за ролевую модель Кена в версии Райана Гослинга, а другой – Элиота Роджера, застрелившего шесть человек в калифорнийской Айла-Висте в 2014 году, покончившего с собой и оставившего после себя блог на YouTube, в котором он обвинял во всех своих несчастьях пренебрегшее им общество и особенно – женщин. Слово «инцел» вообще часто всплывает в англоязычных СМИ в связи с массовыми убийствами, совершенными террористами-одиночками. (В 2020 году Антидиффамационная лига включила инцелов, идентифицирующих себя таковыми, в свой перечень групп ненависти.) Массовое же убийство совершает Трэвис Бикл в кульминации «Таксиста» – выстрелы гремят в борделе сутенера с лицом Харви Кейтеля.
Рассказчик в «Записках из подполья» никого не убивает и вступает в близость с проституткой, но он тоже инцел, самый настоящий. Его мазохистская по своей сути страсть к самоунижению, социальная дисфункция и зацикленность на теориях, оправдывающих его незавидное положение, – это абсолютно инцельские приметы, регулярно воспроизводимые в публикациях анонимных пользователей имиджбордов.
Продюсер просит вас притормозить и вернуться к идее русского «Таксиста». У него к вам куча вопросов. Где сегодня «подпольный человек» Достоевского? Чем он занят? Да вот же: сидит на «Дваче», капчует.
4. Здесь, сейчас
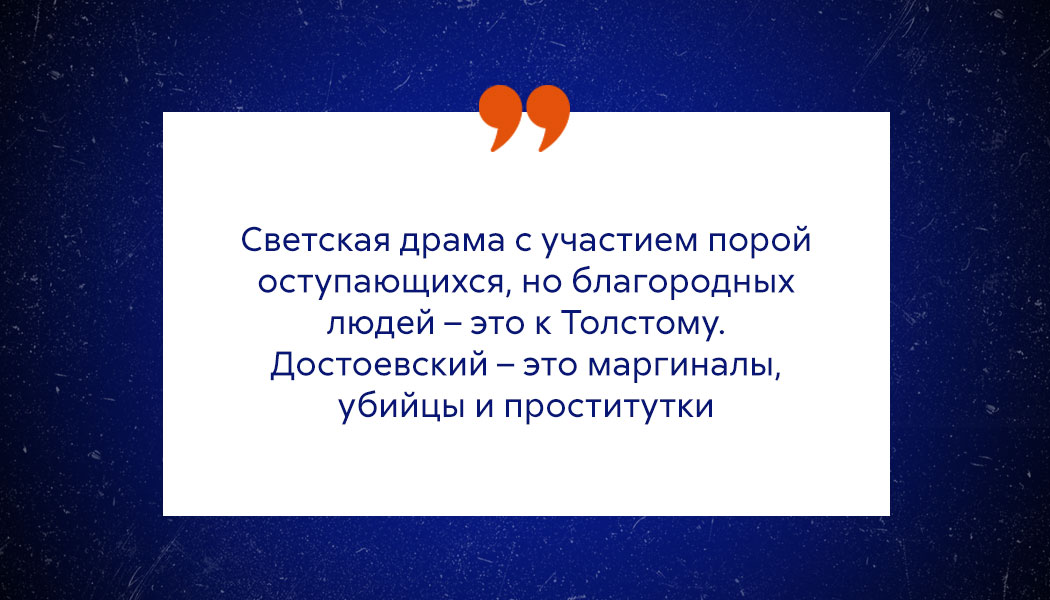
Продюсер хочет современный сеттинг, и это понятно: желание встряхнуть классику, переселив ее потенциально бессмертных героев в наши дни, как минимум коммерчески оправданно – снимать исторические костюмированные драмы дорого, смотрят их в основном бабушки, а стриминги целят в молодую аудиторию. Кроме того, лобовая адаптация текстов золотого века, воспроизводящая сюжеты «до буквы», – это не кино, а супердорогая в производстве аудиокнига. Главный и, возможно, единственный зритель таких экранизаций – школьник, так и не освоивший чтение. Совсем другое дело – снять авторское кино «по мотивам», подперев его классикой, узнаваемой франшизой. В этом есть творческий вызов.
Еще одно условие продюсера: фильм должен быть жанровый. Это уже кажется нереальным. Чем может быть экранизация «Записок из подполья», если не фестивальной драмой в конкурсе «Окна в Европу»? Триллером о межклассовых терках типа «Паразитов», в котором радикализованный полудурок с деньгами вымещает злобу на проститутке со светлой душой? Или, может, сатирической комедией в духе «Американского психопата»? Получится такой метапривет Брету Истону Эллису, роман которого предваряет эпиграф из «Записок».
Чтобы пересобрать историю, прикрутив к ней жанр, нужно сначала понять, за что мы любим оригинальный текст, и начать нужно с главного – с того, из-за чего «Записки» так полюбились Шредеру и Эллису, – это мощнейший нигилистический заряд повести.
Цензор не позволил Достоевскому по его обыкновению выводить героя «Записок» из тьмы к свету христианской веры: его смущала сама мысль, что настолько скользкий персонаж может быть причислен к добрым христианам. Из-за этого «Записки», возможно, самый беспросветный текст Достоевского. Лишенный возможности искать ответов у Бога, герой обращается к индивидуализму и копается в рациональных теориях. Позднее этот аспект повести позволит критикам ретроспективно назвать ее предтечей экзистенциальной волны в литературе, оседлали которую уже французы.
Здесь цензор, точно бывший по долгу службы круглым идиотом, выступил как гениальный редактор: оставив нетронутой косвенную критику апологии Христа в первой части, он не позволил Достоевскому развенчать ее во второй. Давайте начистоту: православная перекалибровка всякой сволочи у Достоевского – это клише. Только дохнет она у него чаще, чем обращается в христианство. Избавленные же от этого клише «Записки» – одна из самых оригинальных вещей в его библиографии.И да, нам нравится эта нигилистическая прошивка и нравится Достоевский, потому что он – трансгрессивный писатель; первый, кто догадался настаивать чернуху на клюкве. Светская драма с участием порой оступающихся, но благородных людей – это к Толстому. Достоевский – это маргиналы, убийцы и проститутки. Это изнасилование 14-летней девочки, двойное убийство топором, тройное ножом и всевозможные психические расстройства. В «Записках» Достоевский не просто оставляет мерзавца в живых, но оставляет его в нижней точке дуги и без какого бы то ни было решения.
Еще одна черта, выгодно выделяющая Достоевского конкретно на фоне Толстого, – его чувство юмора. Достоевский, испытавший сильное влияние Гоголя, мог быть смешным. Уильям Гэддис считал, что даже «Бесы» с их Кармазиновым, этой совершенно беззастенчивой карикатурой на Тургенева, и американцем, завещавшим кожу «на барабан, с тем чтобы денно и нощно выбивать на нем американский национальный гимн», – смешная книга. В романе вырезают невинных людей – и тем смешнее на контрасте история вечно пьяного пристава Флибустьерова.
Смех в «Записках из подполья» – в зазоре между гелотофилией и гелотофобией их героя, его желанием и страхом выставить себя на посмешище. Вся эта ситуация с офицером и сцена обеда с бывшими школьными товарищами – жемчужины литературной кринж-комедии. Закапывающий себя рассказчик осознанно идет на унижение, но стыдно за него читателю. Когда Бикл в «Таксисте» ведет Бетси, девушку из штаба Палантайна, в кино на порнофильм, нам тоже неловко, но Бикл даже не понимает, что попал впросак, а «подпольщик» только туда и метит. Комичен в «Записках» и голос рассказчика – он забалтывается, подозревает читателя в худших мыслях на свой счет, а однажды заподозрив – тут же убеждает нас в справедливости такого суждения о нем.
Если держать прямой курс на русского «Таксиста», по всему может выйти никому не нужный ремейк первого «Брата». Это не то. Нам нужна трансгрессивная кринж-комедия. Звучит как эхо в пустом кинозале, как «нет» на первой же минуте питчинга. Но что, если мы сделаем ударение на слове «трансгрессивный»? Что, если это будет психологический триллер?
5. Или даже фильм ужасов
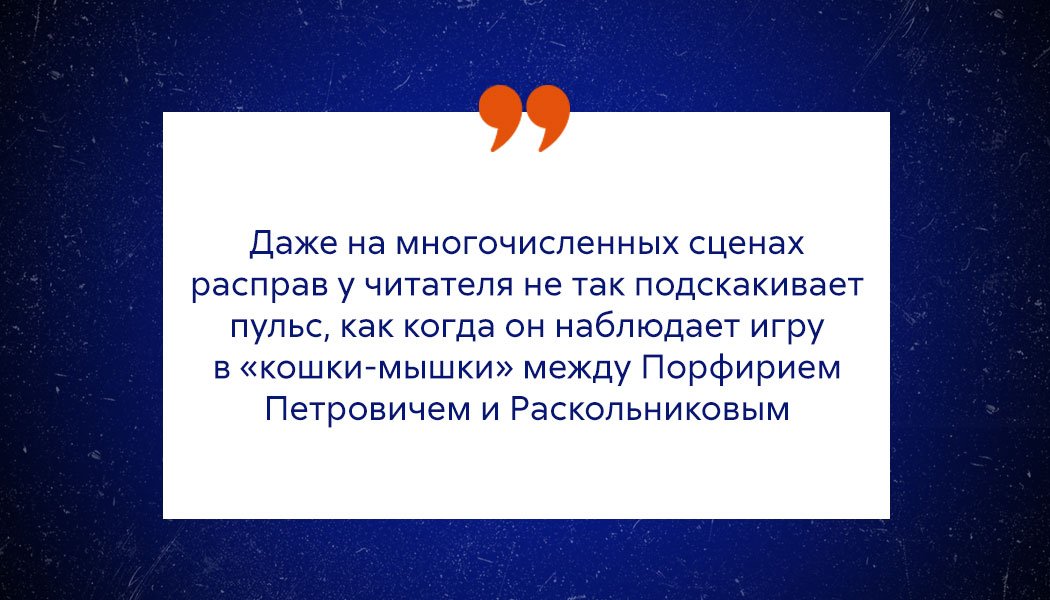
Известно, что Достоевский перечитал всего Гофмана, этого Стивена Кинга начала XIX века. «Двойник», «Бобок» и особенно жуткая «Хозяйка» – это все навеяно Гофманом. Еще отчасти мистическими повестями Гоголя, но Гоголь, как считается, тоже испытал влияние немца. «Портрет», «Вий» – это не что иное, как русифицированная гофманиана.
Достоевский, впрочем, и без мистики умел нагнать страху, чему немало способствовал вкус его героев к насилию. Но даже на многочисленных сценах расправ у читателя не так подскакивает пульс, как когда он наблюдает игру в «кошки-мышки» между Порфирием Петровичем и Раскольниковым. Их динамика в «Преступлении и наказании» так накачана саспенсом, что на «Амазоне» роман отпускают как триллер. Продюсер точно не будет против, если мы выстроим по похожей модели отношения между нашими героями, а значит, осталось решить, кто из них главный.
6. Female gaze
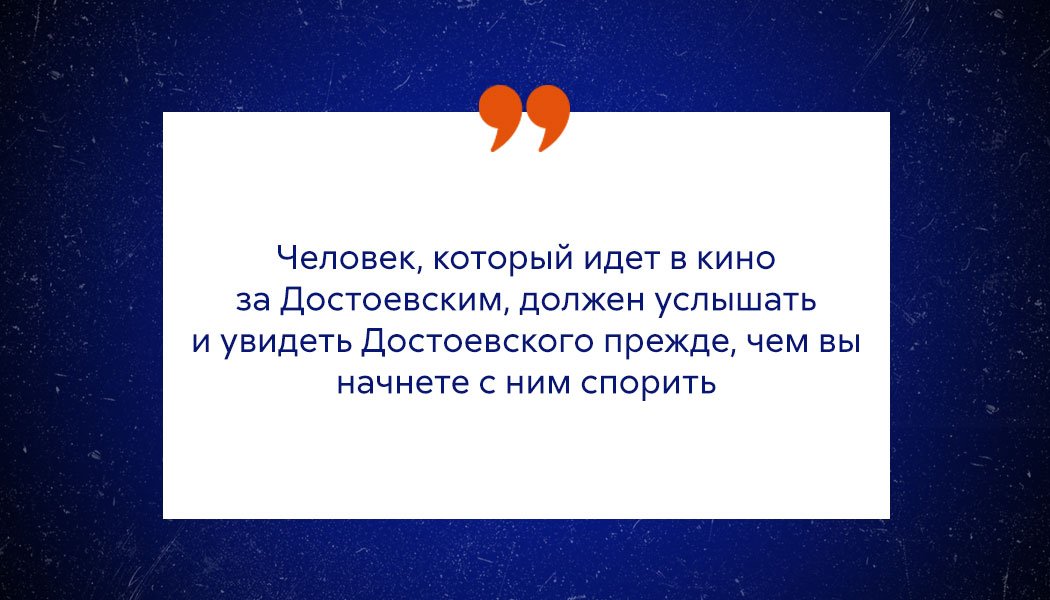
Моральная и эстетическая ревизия первоисточника – чудесная привилегия сценариста, который берется адаптировать текст позапрошлого века. Главное не увлекаться: за 160 лет что-то да поменялось, но неоправданная подмена смыслов и образов оригинала может спровоцировать взрыв. Подо мхом – минное поле. Человек, который идет в кино за Достоевским, должен услышать и увидеть Достоевского прежде, чем вы начнете с ним спорить. Не спорить тоже нельзя. Полуторачасовой сеанс книжной иллюстрации – фрустрирующий опыт. В зрителе, читавшем оригинал, вторичное погружение в книжную матрицу ничего не перевернет. Нужно ее освежить.
Какие у нас варианты? Смотрим в тексте. «Подпольщик» – индивидуалист. Он не верит в людей и – как следствие – сколь-нибудь скорое решение социально-экономических проблем и поэтому высмеивает социалистическую утопию, представляя ее в образе хрустального дворца. Это отсылка к «Что делать?» социалиста Чернышевского – хрустальный дворец возникает в одном из снов главной героини, грезящей о светлом будущем. Наш «подпольщик» тоже будет противником левых теорий, но вряд ли его волнует утилитаризм и роман Чернышевского. Он будет цитировать Эллиота Роджера, Мишеля Уэльбека, Алексея Поднебесного и утверждать, что в условиях «вагинокапитализма» социальный статус мужчины предопределен формой его челюсти.
Мир, свободный от этих условностей, то есть мир, в котором секс-услуги представляют по талонам всем нуждающимся, – хрустальный дворец современного «подпольщика». Для усиления связи с первоисточником мы возьмем текст первой части и аккуратно уложим его вдоль нового содержания. К счастью, обновленной философии там ничто не противоречит:
«...что лучше – дешевое ли счастие, или возвышенные страдания? Ну-ка, что лучше?»
«Мучило меня тогда еще одно обстоятельство: именно то, что на меня никто не похож и я ни на кого не похож. “Я-то один, а они-то все”, – думал я и – задумывался».
«Сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял, чтоб хоть как-нибудь да пожить».
Мазохизм, эскапизм и твердая уверенность в своей уникальности – все это стопроцентное попадание в наше переосмысление. Естественно, нужны синтаксические перестановки, небольшое омоложение лексики, но не узнать такую классику – это надо постараться:
«Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить».
Даже если физиологические нужды придут на смену гастрономическим, суть героя не изменится.
Вроде все сложилось, но есть одна загвоздка: продюсер не видит «подпольщика» как протагониста – и баста. Его, конечно, сыграет молодой симпатичный актер, но к герою все равно будет тяжело подключиться. Собственно, в рамках моральной ревизии логичнее сместить оптику и поместить в центр истории его «жертву» – Лизу, молодую девушку, которую рассказчик встречает в публичном доме.
Мы уже видели это в кино – в «Человеке-невидимке» Ли Уоннелла, кардинально переосмыслившего одноименный роман Герберта Уэллса. Экранизация унаследовала от первоисточника лишь фантастическое допущение, фамилию героя и его уязвимость перед собачьим обонянием. В центре истории у Уэллса был Гриффин, бывший студент-медик, «обесцветивший» себя до полной прозрачности. Постепенно теряя рассудок, он пытается вернуть себе прежний вид, пока в его прозрачную голову не взбредает мысль о мировом господстве, и здесь роман оборачивается луддистской притчей о потенциальных ужасах бесконтрольного НТП. В фильме психопат Эдриан Гриффин в трико, скроенном из плаща-невидимки, терроризирует бывшую жену. Главная героиня здесь она, а невидимость антагониста получает новое метафорическое значение – часто насилие в отношениях не различить невооруженным глазом.
Фильм Уоннелла может быть расценен как ужасная экранизация, угробленная анахронизмом и снесенным тематическим центром, но сам по себе он хорош. Это практически безупречное жанровое приседание с весом трепещущей темы газлайтинга. При этом Сесилии, жены Гриффина в фильме, в романе нет, и вы не найдете в тексте даже намека на нее – это персонаж Уоннелла. Нам досочинять героев не придется. Лизу уже написал Достоевский, и она нас устраивает. В ней хватает пробелов, чтобы заполнить их сообразно нашим драматургическим нуждам, но и фактуры предостаточно – вынужденная секс-работница родом из Риги, реалистка, но слишком юная, еще не зачерствевшая.
Звонит продюсер. Ему нужен логлайн, то есть максимально емкое описание истории. В идеале логлайн буквально одним предложением дает понять, о чем фильм, кто его герой и в чем там конфликт. У нас такой есть: эскортницу берет в плен психически неуравновешенный девственник. «А это точно Достоевский?» – спрашивает продюсер. Вы говорите: «Да».
7. Рудиментарный, полный пробелов, неувязок и оговорок, но все-таки синопсис
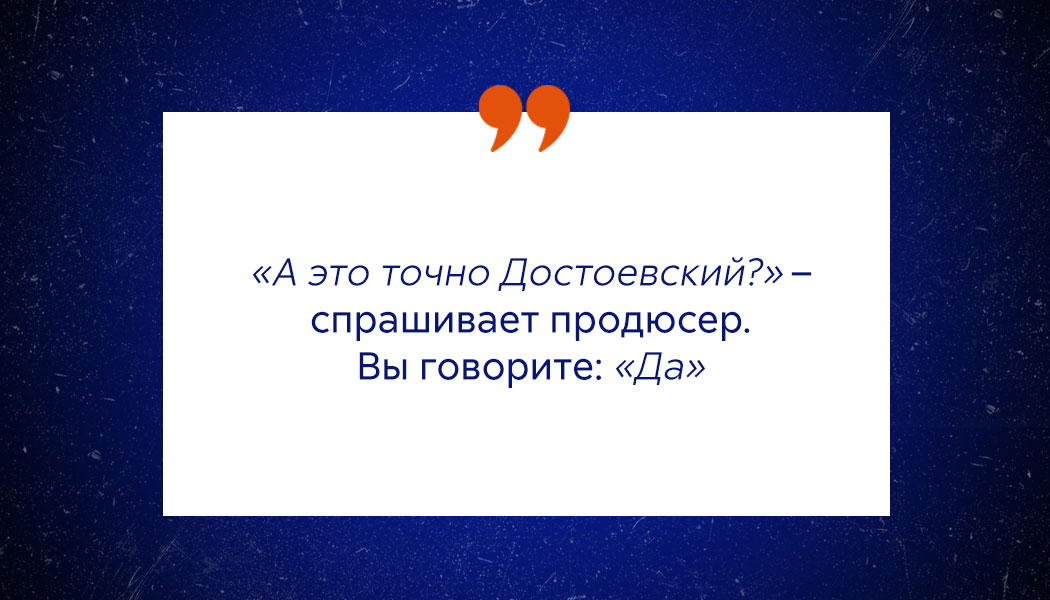
Представьте: в Петербурге находят тела индивидуалок, а на анонимном форуме пользователь с ником podpolshchik публикует видео с последними минутами их жизни.
Наша Лиза работает через онлайн-платформу, приходится – ее родители едва сводят концы с концами, а обучение стоит денег. Да, она приехала из Латвии на учебу, и учится отлично, честно высиживает по пять пар на день и почти все свободное время вне университета посвящает подготовке к занятиям. По субботам она тоже учится. Свободно у нее только воскресенье. По воскресеньям она ездит на вызовы. Ну, ездила. Теперь она с клиентами не встречается, потому что в городе орудует серийный убийца, которого СМИ успели окрестить Подпольщиком – по никнейму автора снафф-видео.
Тут стоит задуматься о роли шестидневной учебной недели в профиците на рынке сексуальных услуг девушек студенческого возраста, но нам не до этого – продюсер просит приехать, чтобы лично сообщить кое-какие новости. Он переговорил с верхами, и бюджет – гораздо ниже оговоренного. Действие придется делать камерным. Еще ему нужны референсы – фильмы, желательно с кассой и критическим признанием, через параллели с которыми мы будем продавать наш проект спонсорам.
Начинается все как в «Варваре» Зака Креггера: девушка оказывается взаперти с незнакомцем, а зритель гадает – маньяк он или нет. Лиза соглашается дать интервью независимому медиа по поводу убийств эскортниц. В специально снятой студии ее встречает молодой парень, только вот списывалась она с женщиной. Он представляется фотографом и уверяет Лизу, что скоро его коллега подъедет. Ведет он себя странновато.
Увидев, что Лизу встречает парень, зритель должен начать ерзать. Почему? Все просто: фильм открывает короткая сцена, в которой приехавшая на вызов секс-работница получает ножом в лицо. Мы не видим, кто на нее нападает, и по телосложению этот кто-то не похож на парня из студии, но зритель все равно нервничает. Они пишут на камеру интервью, и тут-то паренек и вываливает на нашу героиню текст Достоевского, замиксованный с самыми отмороженными сентенциями, какие только можно отрыть на имиджбордах. Помните в повести сцену, где «подпольщик» доводит Лизу до истерики?
«Ты вот теперь молода, хороша, свежа тебя во столько и ценят. А через год этой жизни ты не то уж будешь, увянешь. <...> Во всяком случае, через год тебе будет меньше цена... <...> Ты и перейдешь отсюда куда-нибудь ниже, в другой дом. Еще через год – в третий дом, все ниже и ниже, а лет через семь и дойдешь на Сенной до подвала. Это еще хорошо бы. А вот беда, коль у тебя, кроме того, объявится какая болезнь, ну, там слабость груди... аль сама простудишься, али что-нибудь. В такой жизни болезнь туго проходит. Привяжется, так, пожалуй, и не отвяжется. Вот и помрешь».
Вот этот монолог и то, что в вокруг него, мы берем и переписываем. Это становится инициирующим событием. После действие в фильме разворачивается в духе «Свяжи меня» Педро Альмодовара и «Свежатинки» Мими Кейв – в обоих женщину держит в заложниках симпатичный психопат.
Но почему зритель (и, в частности, консервативный зритель, чемпион по стигматизации секс-работниц) должен сочувствовать нашей героине? Каковы ее обстоятельства и мотивы? В идеале, когда она топает к парадной, мы уже прониклись к ней симпатией. Итак, как мы знаем, она не ездит на вызовы и никого не принимает, опасаясь за свою жизнь. Желание человека избежать мучительной смерти сложно не понять. Вебкамом с одним эфиром в неделю сыт не будешь, а за интервью ей пообещали солидный гонорар. Устройся она на подработку – ей грозит отчисление и аннулирование учебной визы (держим в уме, что она латышка и что дома ее никто не ждет). Схема стандартная: 30 пропусков – и вас просят на выход. Договориться с руководством у Лизы не получилось, и теперь все это она проговаривает, отвечая на первые вопросы нашего антагониста.
Еще одна важная деталь: по дороге в студию за Лизой увязывается незнакомец. Или ей так кажется. Она не бежит, но перебирает ножками в темпе, а ближе к парадной даже спотыкается, роняет сумку, но быстро ее подбирает, летит к двери и набирает на домофоне номер квартиры. Гудки. Преследователь уже здесь, в расфокусе. Он успевает прокричать: «Девушка!» – дверь открывается, дверь закрывается. Он стучит. Она на пороге панической атаки, переводит дыхание – и в лифт. Встречающий ее парень – восточноевропейская реплика Тимоти Шаламе. Да, мужчина, но слишком худой и робкий, чтобы развернуться и уйти. Он делает пару снимков со спины и предлагает выставить камеру. Она отходит в туалет. Без сумки. Возвращается. Он задает первые вопросы. Они все агрессивнее и агрессивнее. Наш Шаламе явно не профеминист. Он уже переходит в нападение, читает ей нотации (см. монолог выше). Она в ступоре. Говорит, что нужно поправить макияж. Снова уходит в уборную, прихватив сумку. Там должен лежать телефон, но его нет. Он вытащил его? Точно вытащил. Надо линять. Из туалета она направляется прямо к выходу, но дверь заперта. Она в тупике. Это он ей говорит одним взглядом, возникнув в коридоре. Она кричит, но это бесполезно: студия – единственное помещение в здании, в котором есть люди. Оно даже не достроено. Новый ЖК/бизнес-центр/подставьте нужное. Это ловушка.
Здесь, в ограниченном пространстве, начинается интеллектуальная-плюс-физическая дуэль между харизматичной секс-работницей и неуверенным в себе, но опасным девственником. Что-то подобное вы могли видеть в «Стоп-слове» Закари Уигона, экранизации одноактной пьесы Мики Блумберга. Парень не в себе, но – маньяк или нет – убивать ее он не торопится. Вместо этого он изливает Лизе свои комплексы, оформленные в виде квазидарвинистской теории о взаимоотношениях полов, параллельно пресекая ее попытки сбежать в хореографически продуманном действии, напоминающем эксцентричную комедию с высокими ставками.
Слабое место инцельской брони известно – это секс. И после изнурительной возни (день уходит в ночь), взаимных откровений и растущей в темпах стокгольмского синдрома интимности Лиза, не то решившись ради спасения жизни на отчаянную манипуляцию, не то проникшись к пленителю искренним сочувствием, перехватывает инициативу – трахает его.
Утром он будит ее завтраком в постель, уже не сумрачный гений с «Двача», а обычный Ваня. Ему даже немного стыдно. Лиза аккуратно просит вернуть телефон, но он уверяет ее, что не брал его. Они включают телик, а там в утреннем выпуске новостей сообщают о поимке Подпольщика – девушка, которую мы видели в первой сцене фильма, получив ножевое ранение в голову, выжила и дала отпор. Лиза переживает когнитивный диссонанс, приходит в себя и жестко мудохает парня, который искренне недоумевает о причинах такой перемены. Она буквально раскурочивает ему гениталии, находит ключ и двигает к выходу. На двери парадной она видит записку от мужика, которого испугалась по дороге в студию – он подобрал ее оброненный у входа телефон и просит позвонить по указанному номеру, чтобы вернуть его.
Для финальной сцены это не годится, нужно что-то после, что-то «вау», но вся фабульная часть на этом изложена. Если мы все сделали правильно, зритель обнаружит в этом аттракционе критику токсичной маскулинности и, может, что-нибудь еще, чего там и в помине нет, потому что зритель всегда находит смыслы в том, что ему нравится, – и только в этом. Если он не подключается, если ему скучно или он не верит в происходящее на экране, не имеет значения, что хотел сказать автор, – его не расслышат. Когда будем писать драфт, обязательно проконсультируемся с кем-нибудь из секс-индустрии, а пока высылаем файл продюсеру и ждем.
8. Пакость и вздрючка
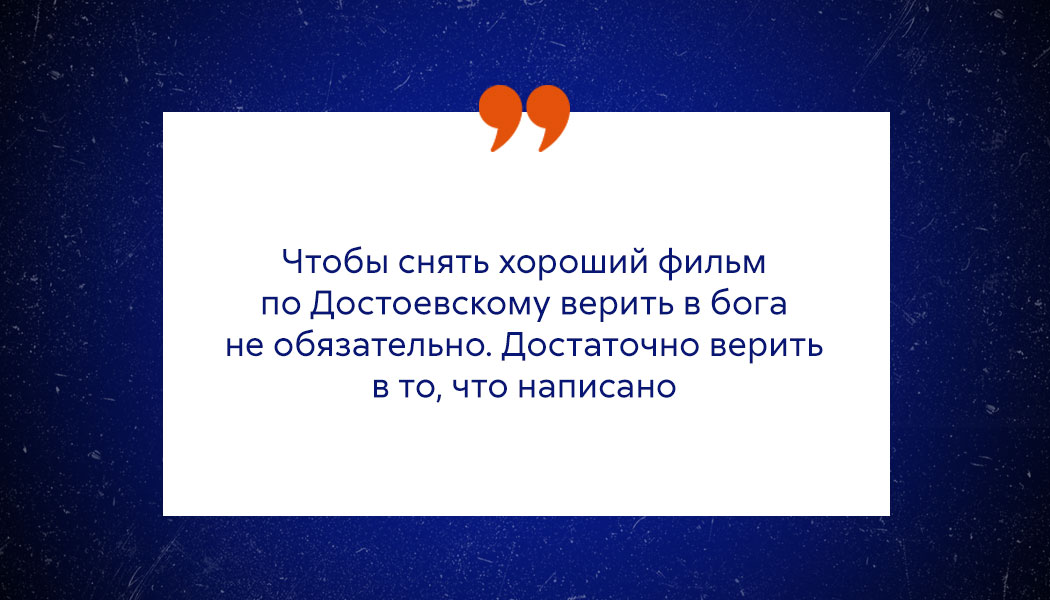
Мы ждем день, два, неделю – и, наконец, долгожданный ответ:
«Сорри, замотался. Слушай, синопсис супер, но мы чет подумали, и решили делать сериал по “Преступлению и наказанию” для платформ. Два Достоевских подряд мы не продадим. В любом случае было круто поработать. Остаюсь на связи».
И все.
Ну, бывает. Можно исписать сотни страниц и упереться в стену. Ваше танго с продюсером заняло две недели. Обидно, конечно, но ладно.
Проходит еще пара месяцев, и вы видите анонс в телеграм-канале, посвященном российскому кино: в разработке новая экранизация «Преступления и наказание», действие в ней развернется в наши дни и будет вольно следовать оригинальному тексту. В пресс-релизе тот самый продюсер описывает проект: «Мы долго думали, за что же мы любим Достоевского, и пришли к выводу, что любим мы его за то же, за что другие ненавидят. Мы любим Достоевского, потому что он – трансгрессивный писатель, нам нравится его чернуха. Вся эта светская возня оступившихся, но вообще-то хороших ребят – это к Толстому. Достоевский – это маргиналы, убийцы и проститутки».
Полгода назад этот тип думал, что «трансгрессия» – это что-то под капотом в его тачке. Надо ли говорить, что вас на этом повело.
Ночью вы не спите. Промаявшись до утра, вы решаетесь и дрожащими пальцами набираете продюсеру письмо. Якобы у вас есть ломовая идея, и вы хотите ее пропитчить. Он отвечает быстро – всего через пару часов, просит выслать заявку, но вы уговариваете его принять вас в его доме на Патриках. Перед визитом вы заглядываете в хозяйственный магазин.
Принимает он вас как ни в чем не бывало. Просит побыстрее перейти к делу, а сам падает в кресло и строчит кому-то в телефоне. Вы, не знаю, просите воды, и он делает жест типа «угощайся». Вы заходите к нему за спину, там графин, наливаете стакан, но не пьете, нет, вы лезете за пазуху и нащупываете ручку топора для разделки мяса.
Кажется, продюсер говорит что-то про ту вашу идею, ту, первую. Жалко, говорит, что не срослось, но вы не слышите. Вы вынимаете топорик и почти без усилия, почти машинально опускаете обухом ему на голову.
Удар приходится ему в самое темя (ну, правильно, он же сидит). Он вскрикивает, но очень слабо, и бросается с кресла на пол, поднимая обе руки к голове. На рукавах блестят запонки. Тут вы изо всей силы бьете еще раз и еще, все обухом и все по темени. Кровь хлыщет, как в каком-нибудь из ваших референсов, где-то на уровне «Папа, сдохни» Соколова, и продюсер валится навзничь. Вы отступаете, даете телу упасть и тут же нагинаетесь к лицу. Он уже мертв. Глаза вытаращены, а лоб и все лицо искажены судорогой.
Вы кладете топор на пол возле трупа и садитесь в кресло. Тянетесь ногой к кофейному столику и скидываете фотографию с Бондарчуком.
Планы скорректировались. Вы снимите этот фильм сами. Не сейчас, когда-нибудь, но снимете.
Да, вы поступили не по-христиански, кто б спорил, но чтобы снять хороший фильм по Достоевскому верить в бога не обязательно. Достаточно верить в то, что написано, и правильно подобрать актера на главную мужскую роль. И здесь у вас два из двух.
Это будет лучшая экранизация Достоевского.
Подпольщика сыграет Марк Эйдельштейн.